Верч Джеймс. Нарративные инструменты, истина и быстрое мышление в национальной памяти: мнемоническое противостояние между Россией и Западом по поводу Украины
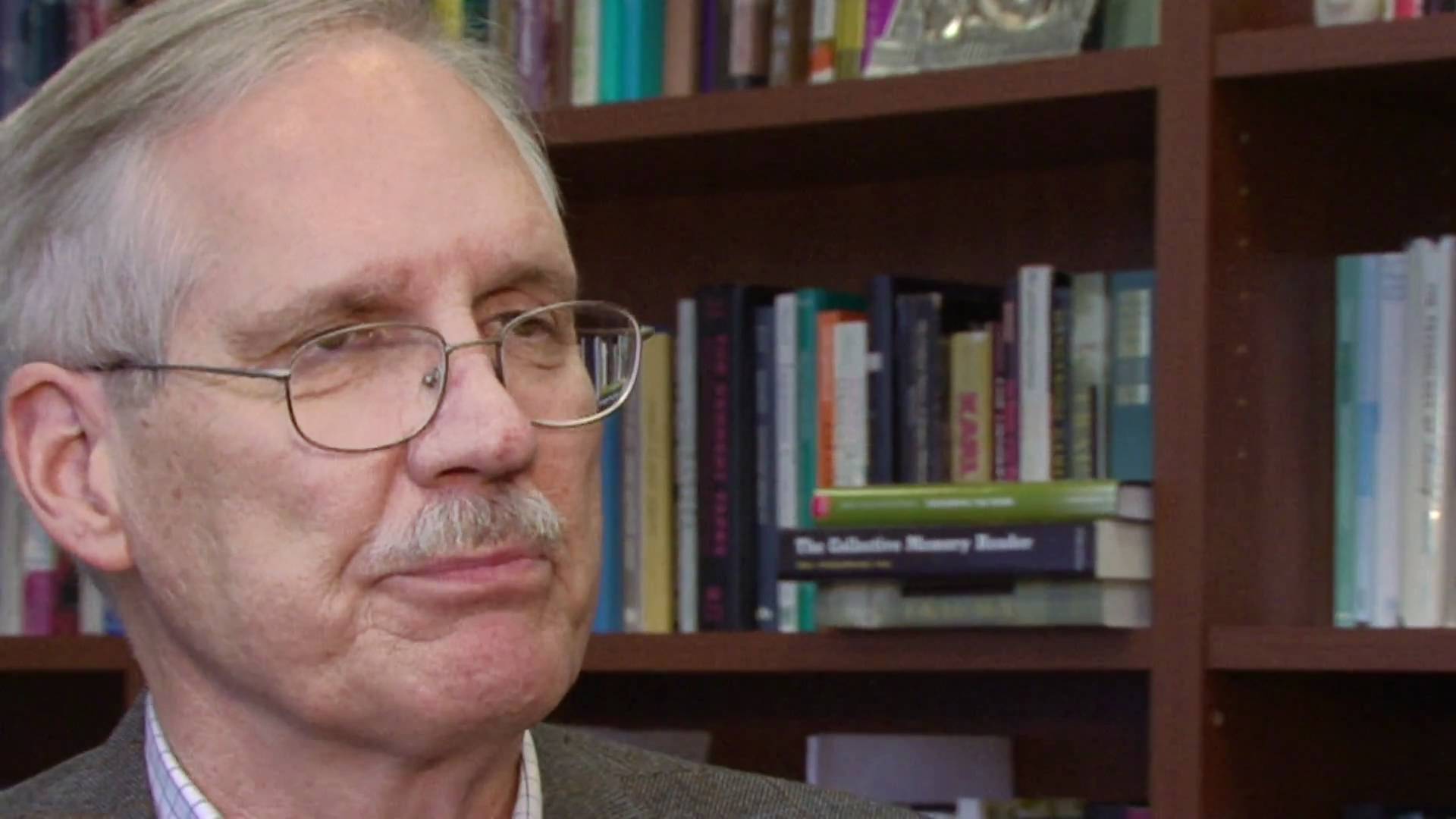
Пер. с англ. С.Е. Эрлих
ABSTRACT: Analyses of the ongoing conflict between Russia and Ukraine often focus on the views of leaders, but this misses the larger point that these views are “mediated” by symbols provided by national communities. This issue is examined in terms of narrative tools that “co-author” the statements of national leaders. Ideas drawn from Lev Vygotsky and Ernst Cassirer are used to examine these tools and how they support the Russian mnemonic community. In addition to examining the surface narratives usually included in such analyses, this involves understanding the underlying mental habits of a national community. In the Russian case, these habits are viewed as reflecting a “narrative template” called the “Expulsion-of-Alien-Enemies.” This underlying code, which has deep historical roots and applies to multiple events in Russia’s past, makes much of its impact through “fast thinking” rather than through conscious reflective thinking, and its veiled nature contributes to “mnemonic standoffs” between Ukraine and Russia.
KEY WORDS: collective memory, national memory, symbolic mediation, fast thinking, narrative templates, Russia, Ukraine, mnemonic standoff
Резюме: Анализ нынешнего конфликта между Россией и Украиной часто сосредоточен на взглядах лидеров. При этом упускается из виду, что эти взгляды «опосредуются» символами национальных сообществ. В данном случае вопрос рассматривается с точки зрения нарративных инструментов, которые выступают «соавторами» заявлений национальных лидеров. Для исследования этих инструментов и их роли в российском мнемоническом сообществе привлекаются идеи Льва Выготского и Эрнста Кассирера. Это требует не ограничиваться рассмотрением нарратива, лежащего на поверхности, и обратиться к глубинным ментальным стереотипам национального сообщества. В случае России речь идет о нарративном шаблоне «Изгнание-чужеземного-врага». Этот глубинный код основан на историческом опыте и применяется для придания смысла многим событиям российского прошлого. Его влияние основано скорее на «быстром мышлении», чем на рефлексии, и он скрытно воздействует на «мнемоническое противостояние» между Украиной и Россией.
Ключевые слова: коллективная память, национальная память, символическое опосредование, быстрое мышление, Россия, Украина, мнемоническое противостояние
Первая публикация: Wertsch, James,V. Narrative Tools, Truth, and Fast Thinking in National Memory: A Mnemonic Standoff between Russia and the West over Ukraine. In Ãsa Mäkitalo, Per Linell, Roger Säljö, eds., Memory Practices and Learning: Interactional, Institutional and Sociocultural Perspectives. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2017, pp. 233-248.
James V. Wertsch. Department of Anthropology Washington University in St. Louis
St. Louis, MO 63130, USA jwertsch@wustl.edu
Введение
В 2014 году США и Европа с удивлением обнаружили, что находятся в состоянии жесткого столкновения с Россией по поводу Украины. Развитие событий показало, что причины чрезвычайного обострения отношений между Россией и Западом не сводятся к борьбе за ресурсы или идеологическому противостоянию. За этим кроется нечто глубоко инстинктивное, нечто, заставляющее многих наблюдателей признаться, что они не в состоянии объяснить агрессивное поведение России.
Германский канцлер Ангела Меркель поведала Бараку Обаме, что российский президент Владимир Путин «утратил связь с реальностью». Это заявление особенно удручает, поскольку считается, что она лучше всех западных лидеров понимает российскую точку зрения.
Едва ли не нарочитое пренебрежение, которое Путин демонстрирует в ответ на предостережения США и европейских лидеров по поводу опасных последствий предпринимаемых им шагов, ведет к многочисленным спекуляциям по поводу причин такого поведения. После многих лет прагматичной геополитической игры, которая была понятна, хотя не всегда приемлема для Запада, Путин начал действовать так, словно перенесся в иную реальность. Он потратил годы, добиваясь полноправного участия в организациях подобных G8, чью встречу он планировал приурочить к Зимней олимпиаде в Сочи. Но в 2014 г. он отверг это все ради особой миссии, смысл которой мало кто на Западе сумел понять.
Вашингтонский «Политико Магазин» посвятил свой выпуск от 13 марта 2014 г. подборке материалов под общим названием «Путин на кушетке (психоаналитика)»[1]. Порядка двух дюжин журналистов, отставных дипломатов и других экспертов в российской политике строили предположения, почему Путин столь беспечно игнорирует возражения Запада и проводит политику, которая чревата для него серьезными проблемами. Один из журналистов писал, что поведение Путина просто озадачивает, и назвал его «сумасшедшим, расчетливым и своенравным в одно и то же время». Другие объясняли его поведение приверженностью теориям заговора, расчетливостью, пессимизмом, паранойей, неприятием Запада, неуверенностью, повышенной чувствительностью, суровым воспитанием, полученным на улицах Ленинграда.
Разумеется, личные свойства Владимира Путина сказались на его геополитической повестке, но в конечном счете не они определяли характер его действий. Я постараюсь показать, что многое из сказанного им в ходе конфликта с Западом по поводу Украины возникло под воздействием глубинного национального нарратива, который на протяжении веков является неотъемлемой частью русской культуры.
Екатерина Великая, которая присоединила Крым к России в 1783 г., считала, что единственный путь защитить свою страну состоит в расширении ее пределов.
Это положение продолжает находить отклик среди «верхов» и «низов» современной России. Для объяснения позиции Путина и ее широкой общественной поддержки необходимо понять тот «социальный язык» (Wertsch, 2002), который российские граждане разделяют как члены «мнемонического сообщества» (Zerubavel, 2003). Этот социальный язык, построенный из набора нарративных инструментов, формирует речь и мышление по поводу прошлого и настоящего и отличает одно мнемоническое сообщество от других.
Национальный нарратив как символическое опосредование[2]
Концентрация внимания на «безумных» заявлениях Путина и его «хладнокровной, расчетливой личности» упускает из виду решающее обстоятельство, способное объяснить его действия. Вместо сосредоточения на личности Путина, сколь бы «атомизированной» (Taylor, 1985) и «ненагруженной» (Sandel, 2010) она ни была, необходимо выявить нарративные инструменты, которые формируют его образ мысли; вместо того, чтобы укладывать его «на кушетку», необходимо рассмотреть, каким образом принадлежность к российскому мнемоническому сообществу отражается в его мышлении.
С этой точки зрения нарративные инструменты выступают своего рода «соавторами» высказываний Путина[3]. Для понимания смысла этих высказываний мы должны осознать, какие инструменты кроются за ними. Глубинное отличие Путина от других западных лидеров во многом основано на различиях между мнемоническими сообществами, к которым они принадлежат, и нарративными инструментами, используемыми этими сообществами. Исследование этого вопроса выходит за академические рамки, поскольку оно позволяет обуздать то опасное противостояние, которое возникло между Россией и Западом по поводу Украины.
Предлагаемый мной подход к символическому опосредованию опирается на исследования Л.С. Выготского (1934, 1978, 1982), которые необходимо рассматривать в контексте широкой дискуссии, протекавшей в России, Германии и Европе в XIX и XX веках. Эта дискуссия в значительной мере определяется такими фигурами как немецкий философ Эрнст Кассирер (Cassirer, 1944, 1946, 1955) и Г.Г. Шпет (1927), который был русским учеником Эдмунда Гуссерля и учителем Выготского. Хотя официальные советские психологи часто критиковали «недостаточно материалистические» взгляды Кассирера, его идеи оказали большое воздействие на Выготского, М.М. Бахтина (1986) и многих других, кто жил и писал в советском контексте.
Их всех объединяет подход к человеку как животному, пользующемуся орудиями, поэтому для понимания сущности речи и мышления необходимо принимать в расчет «опосредование» или «культурный инструмент» (Wertsch, 2002).
Выготский и другие, в том числе А.Р. Лурия (1976, 1980), отводили роль культурного орудия, прежде всего, естественному языку. Следуя по стопам Александра фон Гумбольдта, Кассирера и других филологов и семиотиков, Выготский и Лурия расширили сферу применения психологических методов исследования таким образом, что сегодня мы можем прилагать выводы психологии и когнитивной науки к масштабной картине национальной памяти.
В своих работах Выготский неоднократно говорил о центральной роли, которую опосредование играет в процессе мышления. На мой взгляд – это ключ к пониманию уникальной мощи его идей (Wertsch, 1985, 1991). В одном из своих последних текстов он утверждал: «Центральный факт нашей психологии — факт опосредования» (Выготский,1982, с. 166). Эта тема находится в центре его многолетних размышлений. Сосредоточенность на опосредовании, особенно в том, что касается «знаков» или «психологических орудий», можно обнаружить во всех его текстах. В докладе «Инструментальный метод в психологии» (1930) он дает общий перечень «знаков»: «Язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д.» (Выготский, 1982, с. 103)
Эти культурные инструменты «по своей природе <…> социальные, а не органические или индивидуальные приспособления» (Выготский, 1982, с. 103), поэтому в процессе овладения ими наши речь и мышление социализируются применительно к конкретному культурному и историческому строю жизни. Выготский (1982) подчеркивал, что это овладение приводит именно к трансформации, а не к простому совершенствованию уже усвоенных навыков социального и ментального взаимодействия: «Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, определяя своими свойствами строение нового инструментального акта, как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций» (с. 103).
Идеи Выготского в нескольких важных отношениях перекликаются с положениями Кассирера, производя при этом полезный синергетический эффект. Исходной точкой для Кассирера является отрицание «наивной теории копирования в познавательной деятельности» (Cassirer, 1955, p.75). Говоря о способах, которыми наука взаимодействует с окружающим миром, он, например, отмечает, что «инструменты, с помощью которых она предлагает обсуждать вопросы и формулировать свои выводы, необходимо рассматривать не как образы пассивного отражения реальности, но как символы, сотворенные самим интеллектом» (Cassirer, 1955, p. 75). С этой точки зрения человеческие познание и действие формируются под воздействием «символических форм», которые включают язык, но им не ограничиваются.
Основной пункт, где Кассирер идет дальше Выготского, основан на утверждении, что символические формы порождают «проклятие опосредования». Подразумевается, что пользование ими приводит к часто неосознаваемым издержкам. При таком подходе пользование нарративными инструментами подобно обоюдоострому мечу, поскольку «все символизмы несут в себе проклятие, по причине которого они вынужденно затемняют то, что пытаются прояснить» (Cassirer, 1946, p.7). С учетом анализа Выготского, согласно которому язык является опосредованием социальной и ментальной жизни, это предполагает, что быть человеком – значит использовать культурные инструменты, не только улучшающие, но и ограничивающие наше понимание, в том числе и понимание прошлого. Здесь на ум приходит афоризм У. Дж. Т. Митчелла: «не бывает представительства без уплаты налогов» (Mitchell, 1990)[4], который особенно уместен в отношении национальных нарративов и памяти.
Кассирер развивал свои положения, подчеркивая, что ключевую роль в познании прошлой и современной социальной и ментальной жизни людей играют такие символические формы как миф, искусство и наука. Один из главных интерпретаторов Кассирера Сюзан Лангер суммирует основные положения его работ, отмечая, что для него:
«История мышления состоит прежде всего из постепенного овладения фактической, буквальной и логической составляющими восприятия и выражения. Очевидно, что единственным средством для достижения этих целей является язык. Нельзя забывать, что этот инструмент имеет двойственную природу. Синтактические тенденции языка снабжают нас законами логики, но приоритет имен в его структуре гипостазирует мышление по правилам мифа, который является феноменом-близнецом языка. Эта двойственность, с одной стороны, позволяет выйти за пределы мифологического и эмотивного мышления, с другой, все время возвращает нас обратно. Это в одно и то же время – рассеивающийся и мягкий свет, показывающий нам внешний мир фактов, и вместе с тем интенсивный свет душевных светильников, бросающих блики и тени на фантастический мир переживаний нашего раннего опыта» (Langer, 1958, pp. 391-392).
В некоторой степени эти рассуждения перекликаются с идеями, которыми руководствовались Выготский и его ученик Лурия в ходе эмпирических исследований в Средней Азии в 1920-е годы. Обращаясь к противоположности того, что можно назвать синтаксическими и гипостазирующими тенденциями языка, они описывали, как различаются «теоретические» и «практические» формы мышления и как высшие психические формы развиваются из «элементарных» процессов. Однако, в отличие от Выготского, который подчеркивал, что достижения высших форм мышления позволяют обособить их от элементарных форм, Кассирер доказывал, что даже самые продвинутые формы абстрактного мышления удерживают в себе те элементы, которые Лангер назвала «сферой мифологической и эмотивной мысли».
Взятые вместе идеи Выготского и Кассирера предполагают мир, в котором речь и мышление формируются символическим опосредованием или культурными инструментами, предоставленными историческим, институциональным и культурным контекстами. Это мир, в котором ментальная и социальная жизнь определяются социокультурной ситуацией, поскольку она опирается на эти инструменты, включая нарративы, и эти инструменты множеством способов формируют наши мышление и речь. В этом контексте «двойственная природа» языка играет сложную роль в формировании нарративов и памяти. С одной стороны, то, что Лангер назвала «синтактической тенденцией», придает логику нашему пониманию прошлого, но с другой, эти же самые нарративные инструменты «толкают нас назад» к «гипостазирующему пути мышления», который связан с мифом.
Важно отметить, что в данном подходе культурные инструменты не предопределяют автоматически речь и мышление. Само понятие инструмента подразумевает активного пользователя, а также элементы вариативности и свободы, происходящие из уникальных контекстов действия.
Бахтин утверждал это в своих рассуждениях по поводу речевого высказывания или «текста» (Bakhtin, 1986). По его мнению, любой текст порождает напряжение между двумя полюсами: между уже существующей «языковой системой», которая обеспечивает «повторяющиеся» моменты высказывания, и индивидуальной речью, обусловленной уникальной ситуацией, которая порождает «неповторимые» моменты. Все высказывания подвержены влиянию двух этих полюсов, но их относительный вес может широко варьироваться. Например, военные команды в значительной мере опираются на языковую систему и оставляют мало пространства для спонтанности. В то же время неформальные повседневные разговоры в большей мере опираются на неповторяющийся, спонтанный полюс.
Нарративные инструменты российского мнемонического сообщества
Возвращаясь к заявлениям Путина по поводу событий 2014 года на Украине, следует признать, что его высказывания были сформированы нарративными инструментами его мнемонического сообщества. Поэтому есть смысл рассмотреть эти инструменты. Тот факт, что речь Путина по поводу аннексии Крыма приобрела огромную популярность, свидетельствует о существовании общих нарративных инструментов, которые связывают его с российскими гражданами и отделяют их от других сообществ. Каковы эти нарративные инструменты и почему их власть так велика?
Один из важнейших нарративов, объединяющий российское мнемоническое сообщество, обусловлен повторяющимися вторжениями. Согласно ему, враги причиняют величайший ущерб, но в итоге терпят поражение, благодаря героическим усилиям русского народа, вдохновляемого уникальным духовным наследием. Весь мир наблюдал, какую роль этот нарратив сыграл в ходе героической борьбы советских людей против Гитлера, но для русских этот эпизод – всего лишь одно из бессчетных воспроизведений нарративного шаблона.
Для них эта же самая история неоднократно разыгрывалась на протяжении веков, при участии монголов и «немцев» (тевтонских рыцарей) в XIII в., поляков в XVII в., шведов в XVIII в., французов в XIX в. и снова немцев в XX в.
Национальная память вдохновляет русских на совершенствование традиционного сюжета или «нарративного шаблона» (Wertsch, 2002), благодаря которому различные события интерпретируются ими сходным образом, а именно, как внешние угрозы. Это происходит даже в тех случаях, когда другими эти события воспринимаются как очевидное проявление российской агрессии. Длинный список травматических событий, пережитых русскими в ходе вторжений монголов, французов и немцев, предоставляет убедительный аргумент в пользу развития подобной традиции памяти. По моему мнению, такой обобщающий взгляд на прошлое нельзя считать безосновательным продуктом воображения. Россия действительно не раз переживала иноземные вторжения. В ходе бесконечного, на протяжении веков, пересказа этих событий возник обобщающий схематический нарративный шаблон, который широко и автоматически используется членами этого мнемонического сообщества для осмысления не только прошлого, но и настоящего. Опираясь на массив свидетельств (Wertsch, 2002), я сформулировал основные положения нарративного шаблона «Изгнание-иноземного-врага»:
1. «Начальная ситуация», миролюбивая Россия не вмешивается в чужие дела;2. «Беда», чужеземные враги коварно атакуют Россию, которая их никак не провоцировала;3. Враги пытаются уничтожить уникальную российскую цивилизацию и она оказывается на грани гибели;4. Проявляя исключительный героизм, Россия без чьей-либо поддержки, вопреки всем обстоятельствам, одерживает победу, изгоняя врагов со своей территории.
Этот глубинный код постоянно используется российским мнемоническим сообществом для осмысления не только событий прошлого, но и событий настоящего, подобных происходившим в Крыму в 2014 году. Вместо того, чтобы усматривать в них акт агрессии и аннексии чужой территории, Путин и, вероятно, большинство русских восприняли действия России в Крыму как вынужденный ответ на внешнюю угрозу. С их точки зрения европейские и американские деятели откровенно подбивали украинских националистов порвать с Россией, для того, чтобы НАТО или, по меньшей мере, силы, дружественные НАТО, могли получить прямой доступ к еще одному участку российской границы. Подобные интерпретации преобладали в России и при объяснении причин войны с Грузией 2008 года. С российской точки зрения Грузия не имела самостоятельного значения, но рассматривалась как наконечник копья, которым НАТО стремилось поразить Россию с ее южного фланга.
Опытные дипломаты и политические лидеры понимают необходимость учитывать данный подход, когда они имеют дело с Россией. Даже умудренной опытом Ангеле Меркель пришлось иметь в виду это обстоятельство в ходе действий России в Крыму. Она привыкла, что русские видят врагов там, где другие их не замечают, но она также привыкла к тому, что российский лидер может признавать другие точки зрения и рационально взвешивать последствия действий, которые могут быть популярны внутри страны, но вести к ущербу в международных отношениях. В данном случае Путин, казалось, замкнулся на точке зрения, которая исключала иные подходы, что привело к напряженному противостоянию.
Что можно сказать по поводу национальных нарративов, которые в качестве символического опосредования повлияли на эту ситуацию? Каким образом они не просто позволили, а даже вынудили опытных лидеров и широкую общественность замкнуться на своей точке зрения до такой степени, чтобы утратить способность понимать других, вопреки собственным интересам?[5] Двумя важными факторами этого выступают претензии на истину и «быстрое мышление».
Истинность высказывания и истинность нарратива
Конфликты интерпретаций, подобные возникшему в 2014 году по поводу Украины и Крыма, обычно коренятся в различных представлениях о том, «как это было на самом деле». «Мнемонические противостояния» (Wertsch, 2009) по поводу событий недавнего и далекого прошлого отличаются от других видов дискуссий.
В отличие от конфронтации по поводу идеологии или общественных взглядов, участники мнемонических противостояний чаще всего упорствуют в противоположном понимании истинного смысла событий, который чрезвычайно сложно изменить. Вместо ответов вроде: «Я полагаю, что наши оценки не совпадают» или «Я не могу разделить ваше мнение по этому вопросу», мы в подобных спорах слышим: «Я не могу поверить, что вы действительно так думаете» или «Вам должно быть промыли мозги!». После заявления: «Вы просто лжете!», – дискуссию можно считать оконченной.
Подобные споры легко приобретают жаркий и даже опасный характер, особенно когда в них вовлекаются представители государства. Участники этих дискуссий должны нести ответственность за свои слова, но по меньшей мере в качестве одной из причин того, что они оказываются в тупиковой ситуации, могут быть указаны нарративные инструменты, которыми они пользуются.
Можно выделить два вида истины, которые часто не различаются. Изречения, составляющие нарратив, могут оцениваться с точки зрения того, что я именую «истинностью высказывания». Например, высказывание: «Крым стал частью России в 2014 году», – истинно, тогда как высказывание: «Крым стал частью России в 2013 году», – ложно. Мы располагаем достаточно простыми средствами, чтобы оценить истинность подобных высказываний (архивы, свидетельства очевидцев и т.д.).
Но нарративы представляют собой не просто собрания высказываний, они «постигают совокупность» (Mink, 1970, p.547) событий на другом уровне организации, помещая их в состав фабулы или того, что русский формалист Виктор Шкловский (Shklovsky, 1965) именовал «сюжетом». Роль сюжета в нарративе демонстрируется тем, что «смысл концовки» (Kermode, 1967) является важнейшей функцией текста, которая позволяет придать значение событиям и героям повествования в целом. Логика нарратива подразумевает, что окончание повествования придает смысл всем предшествующим событиям. Как сформулировал Питер Брукс: «Специфическая природа нарратива как смыслопорождающей системы заключается в том, что предшествующие события становятся предшествующими и причины приобретают статус причин только ретроспективно при чтении от конца к началу» (Brooks, 2012, p.47).
Рассуждая по поводу Крыма, Путин не просто перечислял факты или наблюдения, он разместил их в соответствии с нарративными инструментами своего мнемонического сообщества, связав события в знакомый сюжет. С его точки зрения, россиянам вновь пришлось пережить череду событий, которые укладывались в хорошо известное повествование, а именно – возникла угроза, чреватая, если бы чужеземный враг не был отброшен, огромным ущербом для России. Для Путина и его российской аудитории смысл этих событий возникал из «чтения задом наперед», они заранее знали, к чему должны привести эти события.
В ходе дискуссии по поводу Крыма Путин смог выстроить события вдоль линий того, что Фредерик Бартлет (Bartlett, 1932) мог бы назвать специфически российской «активностью, наступающей за пониманием» (effort after meaning), основанной на вышеупомянутом нарративном шаблоне. Эта активность была столь энергичной, поскольку для Путина было очевидно, что разворачивающиеся события являются составной частью очередной угрозы чужеземного вторжения. В речи 18 марта 2014 г. он утверждал, что новое правительство Украины пришло к власти в результате «переворота», главными исполнителями которого были «националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты», и, по его мнению, за спинами этих отвратительных личностей стояли НАТО и другие силы Запада.
В этих высказываниях Путин, вряд ли осознанно, но дословно воспроизвел российский нарративный шаблон, который я описал выше. Необходимо отметить, что на этот раз под угрозой оказались не столько российские границы, сколько «соотечественники», т.е. этнические русские, проживавшие на украинской, в то время, территории. По мнению Путина, они были подвергнуты психологическому, культурному и едва ли не физическому насилию: «Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции»[6]. Как отметили некоторые наблюдатели, при таком подходе под угрозой оказываются не признанные международными соглашениями государственные границы России, но воображаемые этнические границы русского народа. Российские лидеры и граждане настолько были вовлечены в свой «непроницаемый нарратив» (de Waal, 2003), что проигнорировали эти различия.
Объясняя, почему русским соотечественникам угрожают «националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты», Путин ссылался на публикации российских СМИ, где сообщалось о заявлениях представителей крайне правых украинских националистов, вроде членов политической партии Свобода. В терминах истинности высказывания следует признать, ряд членов партии Свобода были действительно вовлечены в украинские события, приведшие к свержению правительства в начале 2014 года, также справедливо и то, что члены партии Свобода делали столь радикальные националистические заявления, так что имеются основания подозревать их в склонности к фашизму. Но столь же истинно, что большинство участников тех событий не состояли в «Свободе», к тому же и сама «Свобода» публично отрицала свою причастность к фашизму и антисемитизму.
Вокруг этих событий возник целый рой несовместимых истинных высказываний, и проблема состоит в том, какая фабула будет положена в основу повествования о том, «как это было на самом деле». С точки зрения истинности нарратива вопрос состоит в том, была ли избранная Путиным линия повествования лучшим способом в точности выстроить все события украинской политической жизни? Был ли «переворот», приведший к власти в Киеве незаконное русофобское правительство, реальной угрозой для русских соотечественников в Крыму и в других местах? Или «правильным» является повествование о народном восстании украинских граждан, которые лишь хотели быть независимыми от российского вмешательства и иметь право на общее будущее с Европой?
Когда мы пытаемся решить, какой из этих нарративов соответствует реальности, мы высказываем суждения по поводу истинности нарратива и поэтому имеем дело не с проблемой истинности составляющих его высказываний. Философы веками спорят по поводу процедур для оценки истинности высказываний. Но существует общее согласие по поводу установления истинности повседневных свидетельств о прошлом и настоящем. Те, кто утверждают, что члены партии Свобода участвовали в киевских демонстрациях февраля и марта 2014 г., могут предъявить в качестве свидетельств фотографии, интервью в СМИ, показания и отзывы очевидцев.
Проблема истинности нарратива состоит в том, что даже если мы соглашаемся, что все его составные части являются истинными высказываниями, это не означает, что мы можем быть уверены, что повествование в целом можно считать истинным. Как показали Луис Минк (Mink, 1978) и другие, это не вопрос суммирования истин составляющих его высказываний, несмотря на то, что мы часто прибегаем к подобному суммированию в ходе логических доказательств и научных исследований. Здесь требуется другой уровень суждений. Как показал Уильям Кронон, даже профессиональные историки на основе одних и тех же фактов (истинных высказываний) зачастую приходят к различному пониманию того, что произошло в действительности (Cronon, 1992). Если подобное свойственно даже рационально мыслящим профессионалам, использующим объективные факты далекого прошлого, то можно только представить, какие жаркие столкновения происходят между членами различных мнемонических сообществ по поводу недавних событий на Украине и в Крыму.
Каким же образом мы должны подходить к оценке истинности нарратива, т.е. определять, предоставил ли кто-нибудь верное повествование о том, что случилось? Первое побуждение в этой ситуации – привлечь на помощь нашим утверждениям истинные высказывания. Путин и другие члены российского мнемонического сообщества могли бы в данном случае заявить: «Как вы можете утверждать, что речь не идет о государственном перевороте, совершенном радикальными украинскими националистами? Вы разве не видели там членов партии Свобода?» Проблема подобной аргументации состоит в том, что истинность нарратива не может быть сведена к истинности составляющих его высказываний. Даже если я согласен с утверждением, что члены партии Свобода участвовали в демонстрациях, это не означает моего согласия с тем, что в Киеве действительно произошел государственный переворот, осуществленный националистами, не говоря уже о «неонацистах, русофобах и антисемитах».
Тогда, каким образом мы можем определить, соответствует нарратив истине или не соответствует, пришел ли я к верному пониманию того, что «случилось на самом деле»? Естественно, что лица, обсуждающие подобные проблемы, обязаны предоставить хорошо документированные истинные высказывания, но, независимо от их прилежности в этом деле, истинность нарратива не может полностью определяться подобными доказательствами. Все равно остается нередуцируемый элемент суждения и это суждение в огромной степени определяется тем нарративным шаблоном, которому привержен автор суждения. Разумеется, приписывание ценности истины даже отдельному высказыванию содержит в себе элемент суждения, но этот момент гораздо сложнее использовать в качестве публичного свидетельства, чем в случае приписывания истинности нарративу. Особенно проблематичным приписывание нарративу ценности истины становится по той причине, что в данном случае суждение лишь в малой степени основано на осознании и рефлексии. «Быстрое мышление», обычно используемое в подобных ситуациях, представляет второй фактор того, что противоположные мнения, возникающие в ходе противостояния интерпретаций, создают столь труднопреодолимые проблемы.
Роль «быстрого мышления» в определении того, «что случилось на самом деле».
При анализе национальной памяти необходимо учитывать, что нарративные шаблоны создают привычные приемы речи и мышления, которые часто ускользают от контроля нашего сознания. Когнитивные исследования «быстрого мышления» (Kahneman, 2011) и интуиции (Haidt, 2013) приводят к пониманию особенностей осознанного и бессознательного мышления, которые хорошо сочетаются с идеями об использовании нарративных инструментов членами национальных сообществ и могут быть полезны для исследования этих процессов.
Согласно исследованию Даниэля Канемана, «быстрое мышление» или «Система 1» действует «автоматически и быстро, почти или совсем бесконтрольно» (Kahneman, 2011, p. 20). В противоположность ему «медленное мышление» или «Система 2» «уделяет усиленное внимание необходимой для этого ментальной деятельности, в которую включаются сложные расчеты, связанные с субъективным опытом, выбором и концентрацией (Kahneman, 2011, pp. 20-21). Описывая взаимодействие двух этих типов, Канеман доказывает, что Система 2 иногда может вмешиваться и проверять то, что Система 1 делает неосознанно и автоматически. Это требует усилий и концентрации, но «одна из главных особенностей [Системы 2] состоит в лености и нежелании расходовать дополнительные усилия» (Kahneman, 2011, p. 31). Леность Системы 2 может создавать серьезные проблемы, поскольку решения Системы 1 могут быть глубоко ошибочными. Мы склонны не замечать этого, «слишком самоуверенно доверяемся своей интуиции» (Kahneman, 2011, p. 45), усугубляя, таким образом, проблемы.
Идеи Канемана позволяют объяснить, почему мнемонические сообщества могут испытывать столь серьезные затруднения, пытаясь достичь взаимопонимания. Систему 1 характеризирует самоуверенность, побуждающая к поспешным выводам. Эта форма ментальности «уделяет мало внимания количеству и качеству свидетельств»: «Мы часто не в состоянии признать, что решающие для нашего суждения свидетельства отсутствуют, удовлетворяясь теми свидетельствами, которые есть в нашем распоряжении» (Kahneman, 2011, p.87). «Ассоциативная машина», которая направляет наше мнемоническое сообщество, может оказаться в подчинении Системы 1, «машины поспешных выводов», которые отличаются от выводов ассоциативной машины другой группы. Согласно используемой здесь терминологии, каждое мнемоническое сообщество опирается на свой набор нарративных шаблонов и определяемое ими быстрое мышление. Когда шаблоны различаются, возникают несовместимые представления о том, «что произошло на самом деле».
С этой точки зрения, нарративные шаблоны – это привычные средства для производства быстрых, почти автоматических суждений, которые обычно не подвергаются сознательной рефлексии Системы 2. Вместо того, чтобы осмотрительно и осознанно отбирать подходящий сюжет, способный придать смысл тому или иному событию, мы автоматически попадаем под влияние нарративного шаблона, который уверяет нас, что события развиваются согласно его предписаниям. В предельных случаях это вынуждает считать, что нарративные шаблоны подчиняют нас в большей мере, чем мы используем их в своих целях.
В этой удручающей ситуации несколько обнадеживают наблюдения Канемана за работой Системы 2. Они позволяют надеяться, что, опираясь на рефлексию и тщательный анализ свидетельств, возможно избежать поспешных заключений, внушаемых нарративным шаблоном. Леность Системы 2 является серьезным препятствием для оспаривания интерпретаций, навязываемых нам нарративным шаблоном. Тем не менее, в этой ситуации критическая рефлексия – единственный инструмент устранения расхождений и достижения взаимопонимания между мнемоническими сообществами.
Истина, быстрое мышление и мнемонические противостояния
Центральная роль быстрого мышления и связанная с ним тенденция поспешных выводов об истинности той или иной картины прошлого означает, что мнемонические конфликты, подобные возникшему между Россией и Западом по поводу Украины, должны быть скорее правилом, чем исключением.
Вовлеченные в них могущественные психологические процессы приводят нас в состояние самоуверенности потому, что они действуют под или над уровнем осознанной рефлексии. Комбинация нарративных инструментов и связанных с ними бессознательных шаблонов мышления настолько всесильна, что нас изумляет чья-либо попытка представить принципиально отличную интерпретацию того, «как это было на самом деле». Это разобщение способно порождать комментарии вроде того, что другие «обитают в иной реальности» либо, что им «промыли мозги». Но подобные комментарии могут также означать, что мы не понимаем логику иной точки зрения.
В конце концов полезно признать, что другие действуют согласно логике иного нарратива, суть которого мы просто не понимаем. Дополнительное затруднение возникает в силу того, что «логика» в данном случае – слишком сильное слово. Когда мы говорим о логике, мы обычно подразумеваем своего рода рациональный анализ, нечто, что мы относим к типу мышления Системы 2 Канемана. Но «логика», будучи вовлеченной в нарративный шаблон, действует на таком глубинном уровне, что мы не осознаем власти символического опосредования и, полагая, что просто рассказываем истину о том, что случилось, попадаем под «проклятье опосредования».
Причины того, что мы так искренне вовлечены в нарративный шаблон национального сообщества и столь глубоко ему преданы, в значительной мере неясны. В качестве заключения я бы хотел предложить некоторые размышления по этому поводу. Возможно, наша ранняя восприимчивость к национальному нарративу в школьном или даже более юном возрасте объясняется стремлением понять смысл прошлого, используя единственную простую сюжетную линию. Часто утверждают, что перед тем как показать детям все сложности, исключения, «если», «а» и «но» истории, необходимо предоставить им упрощенную и связную картину прошлого. В этой связи мы часто говорим, что ученики нуждаются в базовом представлении о чем-то, прежде чем они смогут относиться к нему критически.
Несмотря на то, что многие преподаватели прилагают все усилия, чтобы побудить учеников к рациональному восприятию истории, необходимо помнить, что их практики формируются более широким спектром сил, чем они сами. Характер преподавания в школе, прежде всего, отражает стремление нации-государства воспитать добропорядочных и лояльных граждан путем контроля учебников и учебных планов. В последнее время идут дебаты, порой довольно оживленные, о том, что надо и что не надо преподавать в школе. Например, Линн Чейни свою книгу «Америка, патриотический учебник для начинающих» начинает с заявления: «Америка – это, прежде всего, страна, которую мы любим» (Cheney, 2002). Это издание формально не входит в учебный план, но идеи бывшего председателя Национального фонда гуманитарных наук и жены бывшего вице-президента Дика Чейни имеют заметное влияние.
Одновременно с дискуссиями, ведущимися в США, президент Путин критикует то, что он именует «путаницей в головах» российских учителей, и побуждает авторов учебников сосредоточиться на героических страницах истории и меньше говорить о ее трагических аспектах. Он признает, что «касается каких-то проблемных страниц в нашей истории – да, они были», но подчеркивает, что и в истории других стран были подобные проблемы, и продолжает: «У нас их было меньше, чем у некоторых других. И у нас они не были такими ужасными, как у некоторых других». Его главный вывод состоит в том, что «нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины»[7]. Чейни и Путин являют собой особенно вопиющие примеры усилий представить историю в патриотическом виде, но дух, движущий ими, может быть обнаружен в преподавании истории по всему миру. И это обстоятельство позволяет задаться вопросом: каким образом подобная «духовная пища», предоставляемая учебниками истории, формирует ментальные стереотипы, обусловленные национальными нарративными шаблонами.
Второй момент, который необходимо иметь в виду при попытке рассмотреть генезис нарративных шаблонов, состоит в том, что исследования психологии памяти свидетельствуют: первое знакомство с информацией, первое обсуждение или пересказ события, после того как оно произошло, могут оказать глубочайшее влияние на то, как это событие будет вспоминаться впоследствии. Это воздействие может быть столь значительным, что порой люди продолжают хранить прежнюю память о событии, даже если они располагают информацией о том, что эта память не соответствует действительности. Существует ли что-то подобное, стоящее за фактом и заставляющее нас так замыкаться на рассказе о прошедших событиях, что нам чрезвычайно сложно увидеть точку зрения, отличную от нашей? В самом деле, если даже возможно, что кто-то в процессе школьного образования будет обучаться «неофициальной» картине прошлого, пересилит ли это попытки государства внушить «официальную историю»? Пеетер Тульвисте и Джеймс Верч (Tulviste, Wertsch, 1994) полагают, что именно это происходило в советскую эпоху в таких местах как Эстония.
Мои комментарии по этому вопросу в высшей мере умозрительны, но они могут наметить продуктивное поле совместных исследований, которые могли бы объединить представителей различных дисциплин для того, чтобы обратиться к изучению одного из наиболее загадочных и опасных феноменов, действие которого мы наблюдаем в современных международных отношениях. Разумеется, что конфликты между национальными сообществами не могут и не должны быть сведены к вопросу ментальных стереотипов, но слишком много дискуссий между противостоящими сторонами завершается «коротким замыканием» потому, что мы не осознаем силу этих стереотипов и нарративных шаблонов, которые их порождают.
References
Bakhtin, M.M. (1986). The problem of the text in linguistics, philology, and the human sciences: An experiment in philosophical analysis. In Bakhtin, M.M. (1986). Speech genres & other late essays. Austin: University Texas Press, pp.103-131. (translated by Vern W. McGee; edited by Caryl Emerson and Michael Holquist)
Bartlett, F.C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Cassirer, E. (1944). An essay on man: An introduction to a philosophy of human culture. New Haven: Yale University Press.
Cassirer, E. (1946). The myth of the state. New Haven: Yale University Press.
Cassirer, E. (1955). Philosophy of symbolic forms Vol. 2, Mythical Thought. New Haven, Yale University Press.
Cheney, L. (2002). America: A patriotic primer. New York: Simon & Schuster Books For Young Readers (illustrated by Robin Preiss Glasser)
Cronon, W. (1992). A place for stories: Nature, history, and narrative. The Journal of American History. vol. 78, no. 4, pp. 1347-1376.
Garagozov, R.R. (2017). Collective memory in dynamics of ethnopolitical mobilization: The Karabakh conflict. In Ãsa Mäkitalo, Per Linell, Roger Säljö, eds., Memory Practices and Learning: Interactional, Institutional and Sociocultural Perspectives. Charlotte, NC: Information Age Publishing, pp.249-276.
Haidt, J. (2013). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. New York, Vintage.
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Kermode, F. (1967). The sense of an ending: Studies in the theory of fiction. New York: Oxford University Press.
Langer, S. K. (1958). On Cassirer's theory of language and myth. The philosophy of Ernst Cassirer. pp.381-400.
Luria, A.R. (1976). Cognitive development: Its cultural and social foundations. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Luria, A.R. (1981). Language and cognition, ed. J.V. Wertsch. New York: Wiley Intersciences.
Mink, L.O. (1970). History and fiction as modes of comprehension. New Literary History. Vol. 1, No.3, pp.541-558.
Mink, L.O. (1978). Narrative form as a cognitive instrument. In R.H. Canary and H. Kozicki (eds.), The writing of history: Literary form and historical understanding. Madison: University of Wisconsin Press, pp.129-149.
Mitchell, W.J.T. (1990). Representation. In F. Lentricchia & T. McLaughlin (Eds.), Critical terms for literary study. Chicago: University of Chicago Press, pp.11-22.
Onyeneho, G.K. (2017). Memory and national identity in a modern state: The Nigerian case. In Ãsa Mäkitalo, Per Linell, Roger Säljö, eds., Memory Practices and Learning: Interactional, Institutional and Sociocultural Perspectives. Charlotte, NC: Information Age Publishing, pp.277-292.
Ricoeur, P. (1984-86). Time and narrative. 2 vols. Chicago: University of Chicago Press. (translated by Kathleen McLaughlin and David Pellauer)
Sandel, D. (2010). Justice: What’s the right thing to do? New York: Farrar, Straus and Giroux.
Shklovsky, Viktor. (1917/1965). Art as Technique in L T Lemon and M Reis, eds., (1965) Russian Formalist Criticism. University of Nebraska Press.
Taylor, C. (1985) Human agency and language: Philosophical papers I. Cambridge: Cambridge University Press.
Tulviste, P. & Wertsch, J.V. (1994). Official and unofficial histories: The case of Estonia. Journal of narrative and life history, 4(4), pp. 311-329.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. (edited by M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, and E. Souberman)
Vygotsky, L.S. (1981a). The instrumental method in psychology. In J.V. Wertsch, ed., The concept of activity in Soviet psychology. Armonk, NY: M.E. Sharpe, pp.134-143.
de Waal, T. (2003). Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. New York: New York University Press.
Wertsch, J.V. (1985). Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wertsch, J.V. (1991). Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wertsch, J.V. (2002). Voices of collective remembering. New York: Cambridge University Press.
Wertsch, J. (2008). Blank Spots in Collective Memory. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 617(1), 58-71.
Wertsch, J.V. (2009). Collective memory. In P. Boyer & J.V. Wertsch, eds., Memory in mind and culture. Cambridge: Cambridge University Press, pp.117-137.
Zerubavel, Eviatar (2003) Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Выготский Л.С. (1982) Собрание сочинений: В 6-ти тт. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии. М.: Педагогика.
Шпет Г.Г. (1927). Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на тему Гумбольдта. М.: Государственная академия художественных наук.
[1] Putin on the Couch. Politico Magazine. 2014. March 13. URL: https://www.politico.com/magazine/story/2014/03/putin-on-the-couch-104647.
[2] Подробнее о формах опосредования, вовлеченных в национальные нарративы см.: Garagozov, 2017.
[3] Такое «соавторство» является частью более широкого бахтинианского вопроса: «Кто производит высказывание?» (Wertsch, 1991, p. 53), с ответом, что это всегда более чем один голос.
[4] Здесь обыгрывается популярный лозунг времен Американской революции: «Нет налогам без представительства» (прим. переводчика)
[5] По поводу других случаев символического опосредования национальных нарративов и идентичностей см.: Garagozov, 2017 и Onyeneho, 2017.
[6] Обращение президента Российской Федерации // Президент России. 2014. 18 марта. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/20603
[7] Russia’s past: The rewriting of history. Economist, 2007. URL: http://www.economist.com/node/10102921. Русский перевод см.: Переписывание истории // Иносми. URL: http://inosmi.ru/inrussia/20071109/237726.html.